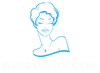О своих переменах в жизни актриса рассказала в интервью

Дарья Урсуляк уже была героиней нашего журнала четыре года назад, когда она только стала мамой. За это время ее актерская карьера пошла резко в гору, появились интересные работы и в театре, и в кино. Сейчас ей чуть за тридцать — и этот возраст, и, видимо, материнство ей очень к лицу. О том, какие перемены произошли в жизни и мироощущении — в интервью журнала «Атмосфера».
— После рождения Ульяны прошло четыре года. Ты свыклась с образом жизни мамы-актрисы?
— Мне кажется, здесь все осталось без изменений. Пытаюсь найти баланс, но чаще всего не нахожу и мучаюсь от того, что в какой-то роли: мамы или актрисы — недодаю. Думаю, что такие «качели» всегда будут в моей жизни. Я даже не уверена, что это связано с Ульяшей, скорее, с моей установкой, что я всем и везде должна максимум.
— Не думала обратиться за помощью к психологу?
— Было дело, я ходила к психологу некоторое время. Потом благополучно перестала это делать: мне показалось, что в принципе все, что я слышу от чужого человека, могу сказать себе и сама. И вместо того чтобы постоянно мучиться своим несовершенством или несовершенством ситуации, я просто начала меньше требовать от себя и других — так гораздо спокойнее. А еще я стараюсь не заниматься упоительным разбором собственных переживаний и не копаться в них до бесконечности. Так что, отвечая на твой вопрос: равновесия нет — и это нормально. Что поделать, если мне хорошо в покое, а он возникает, когда я нужна всем и везде.
— Раньше ты говорила, что искусство, конечно, бессмертно, но будущее и твое продолжение — в детях. Что скажешь сегодня?
— Если кто-то стоит у моей головы с пистолетом и требует срочно расставить приоритеты, своих близких я поставлю на первое место. Но вопрос выбора, даже временного, у меня, к счастью, никогда не возникал. Любимое дело для меня — одно из средств радостного получения энергии, но глобальные смыслы и сверхзадачи, что ли, я ощущаю в другом.
— А как были расставлены приоритеты у родителей, как ты ощущала их любовь?
— Я очень хорошо помню присутствие мамы. И в принципе это не менялось и не меняется. Даже ее работа проходила со мной, она всегда была вблизи. А папе тогда приходилось активно заниматься своей жизнью: время для него было такое, но дни, часы, минуты, которые мы проводили вместе, окупали его отсутствие. Мне кажется, тут дело не столько в количестве, сколько в качестве общения с ребенком. Проводить время вместе нон-стоп, конечно, приятно, но в этом нет необходимости ни в детско-родительских отношениях, ни в каких-либо других. По существу, это ничего не меняет. Связь и близость формируются как-то иначе.
— Ты помнишь какие-нибудь очень счастливые моменты, проведенные с родителями?
— Помню, их было много. Они занимались собой, просто я была вписана в их жизнь. И сейчас как раз об этом думаю в контексте наших с Ульяной отношений. Я помню встречи Нового года, когда всю ночь играла сама или с детьми гостей. Но у меня было ощущение, что родители все время рядом, периодически мы пересекались с их взрослым миром. (Улыбается.) И сейчас у меня такая же задача, я не могу проводить с дочкой двадцать четыре часа в сутки, мы обе заняты своими делами, но чувствуем друг друга. А если мы вдвоем, то это полноценное общение: мы делаем то, что нравится нам обеим.
— С кем оставляешь Ульяну, когда работаешь, или она ходит в садик?
— У нас есть няня, есть Ульяшин папа, есть мои родители, бабушки, дедушки. У нее огромный круг людей, которых любит она и которые любят ее. Если мы захотим и ситуация будет благоприятной — случится и садик.
— А тебе самой спокойнее, когда с Ульяной находится родной человек, или ты нашла идеальную няню?
— Ну, вряд ли няня может быть идеальной, но можно попробовать найти максимально подходящий вариант. Мне более-менее со всеми спокойно. У дочери с каждым своя модель поведения, у нее вообще удивительная способность подстраиваться под человека, под его темп и ритм жизни. И каждый, кто взаимодействует с ребенком, дает ему что-то свое. Главное, чтобы то время, которое проводит с ней один из нас, было осмысленным и счастливым.
— С какого возраста у дочки стал проявляться характер? И видишь ли в ней черты кого-то из родных?
— Мне кажется, что еще во время беременности я поняла, какой человек скоро появится, хотя, может быть, это мамский самообман, как бы дающий мне фору в понимании своего ребенка. Я вижу в ней черты всех поколений ее родственников. При этом она — личность, не похожая ни на кого, что совершенно естественно.
— Твоя мама тоже все понимала про тебя, когда ты находилась в животе, говорила папе: «Легко не будет»…
— Да, думаю, это были похожие ощущения, либо мы одинаково это чувствуем. С той только разницей, что с Ульяшей легко.
— Ты была вовлечена в родительскую жизнь, а у Ульяны есть няня…
— Это же был 1989 год. Не знаю, могли ли они себе позволить няню и насколько это вообще было распространено. В моей семье няня для Ульяши — не чужой человек. Да и я иногда беру дочь на работу, рассказываю ей, чем занимаюсь, с кем общаюсь. Чтобы это не был для нее чужой мир, в который она не допущена. Всему свое время, не думаю, что в два-три года была необходимость приводить ее на съемочную площадку и в театр.
— Ты мама строгая?
— Мне кажется, что я не строгая, чем могу очень разболтать человека. Потом, когда я подаю голос, для всех это неожиданность. А голос у меня есть, он громкий и неприятный. (Улыбается.) Просто не нужно садиться на шею. Да и сажать на шею не нужно.
— Знаю, что тебе в детстве и юности давали свободу, но всегда хотели знать, как ты ею распоряжаешься.
— Я в принципе всегда так прилично себя вела, что не нужно было как-то ограничивать меня. Достаточно было просто поговорить, что делала, как правило, мама, и все вставало на свои места. Помню, что иногда я приходила домой на час позже, и если не пре-дупреждала, что задержусь, папа начинал кричать. И меня приучили звонить. А теперь я дожила до того, что наконец-то могу долететь куда-то и не позвонить — и никто при этом не будет в панике.
— А сама ты не хочешь сообщить, что прилетела? Все равно им было бы спокойнее, а для тебя это же такая мелочь…
— Мелочь, но она пробуждает во мне тревогу. Я долетела, все хорошо. Почему должно быть плохо-то? Если что, родители узнают об этом первыми, ну, или вторыми. (Улыбается.) Так что не надо ждать звонка и нервничать по этому поводу.
— Ты как-то сказала, что на большинство ситуаций у вас с мамой не сходятся ни взгляды, ни мнения, но при этом утверждаешь, что это не суть важно. Как такое возможно?
— Я понимаю, что мама уже давно выросла (улыбается), я ей ни на что глаза не открою, переубедить не смогу — и у меня нет такой задачи. Более того, я думаю, что со временем разрыв во мнениях будет все больше и больше.
— Но если вы ни в чем не сходитесь, где же тогда платформа для взаимопонимания? На мой взгляд, самый близкий человек должен любить и понимать…
— Ну да, смотреть можно на многое по-разному, но если знать близкого человека и принимать его по умолчанию — проблем быть не должно. Мы с мамой с рождением Ульяши стали только ближе. И в огромном количестве принципиальных вещей все-таки сходимся. А главное, можно сказать (улыбается), что мы любим друг друга. Но мама всегда считает, что она знает, как надо, а я — что этого никто не знает, и она в том числе. Мне интересно, как будет у меня все складываться с дочерью, насколько я буду повторять модель поведения моих родителей.
— Говоря о том, с кем остается дочка, ты сказала «Ульяшин папа». Мне в этих словах почудилось, что в ваших отношениях с Костей что-то изменилось.
— Да, так и есть. Мы больше года не вместе. «И это все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме».
— Ты делишься серьезными решениями или еще мыслями о них с родителями?
— Да, но мои личные решения касаются только меня. Не помню, сказала ли я о разводе по факту или в процессе, но я не пыталась заручиться их поддержкой или одобрением. Хотя от людей, которые тебя любят, странно ожидать чего-то, кроме уважения и необходимого «мы рядом». Так у нас и было.
— Наверное, ты стала чувствовать большую ответственность за Ульяну?
— Я в принципе очень ответственный человек — куда уж больше. И когда Ульяша с Костей, я стараюсь не контролировать их и не мешать их общению, это их отношения, в которых все гармонично. Они — замечательная пара.
— Сейчас модно рано отдавать детей во всевозможные кружки. Ульяна чем-то занимается?
— Мы предприняли в прошлом году попытки хождения в бассейн, получили адский опыт больницы. И поскольку я человек впечатлительный и, честно говоря, не то что не приветствующий, а не циклящийся на раннем развитии детей, то думаю, что торопиться некуда. Ульяна сама скажет, чем хочет заниматься, и непременно это получит.
— Ты упомянула, что впечатлительная. Как же тебе удается владеть собой, справляться со своей натурой?
— Я окружена очень правильными людьми (улыбается), прежде всего в моей семье. Они умеют меня собирать в те редкие моменты, когда я сама не могу этого сделать. И есть друзья, в частности, подруга, с которой мы дружим с детства, она лучше всех психотерапевтов вместе взятых. У нас бывали очень разные этапы, связанные с институтами, работами, личной жизнью, рождением детей, но это тот тип отношений, когда связь не прерывается вне зависимости от ее интенсивности. Дружим уже больше двадцати лет, сама не верю, гигантская цифра.
— За эти несколько лет у тебя появилась череда очень хороших ролей в кино. Если нет интересных предложений, можешь позволить себе не работать или все равно стараешься не быть в простое?
— Я не соглашаюсь и даже не пробуюсь на то, на что категорически не хочу. Иначе мне становится плохо, это меня разрушает. Но по большому счету я всегда предпочитаю работать. В любой непонятной ситуации — иди, работай. Такой нехитрый принцип.
— Как часто не утверждают? Изменилось ли что-то по сравнению с началом карьеры?
— Не утверждают чаще. Хочется думать, что эта драматичная статистика связана просто с довольно большим количеством предложений. (Смеется.) Иногда я читаю сценарий, и, зная, от кого пришло предложение, понимаю — мы вот семь лет не совпадали, едва ли что-то изменится, но почему бы не дать друг другу шанс? В конце концов пробы — часть работы.
— Никогда не ошибалась с прогнозом?
— В принципе, я приучила себя идти на пробы с ощущением, что будет эта работа в моей жизни или нет, ничего не изменится. Но у меня, к сожалению, есть дурная актерская черта — азарт. Я все равно пока не могу относиться к пробам с холодным носом. Но я лимитирую свой ажиотаж. Иначе можно сойти с ума, а я хочу продержаться еще хотя бы несколько лет в каком-то относительном здоровье. (Улыбается.)
— Ты сейчас влюблена или твое сердце свободно? И в принципе, чтобы работать с азартом, тебе нужно это состояние?
— Мне хорошо там, где я сейчас нахожусь, и я надеюсь, что так будет как можно дольше. Я не про вечно горящий глаз и перманентную влюбленность во всех и все, а про жизнеобеспечивающее и смыслообразующее чувство, что ли. Оно дает мне огромную энергию и силы. И я совсем не убеждена, что для того, чтобы хорошо сыграть, нужно пережить какой-то опыт. Как говорится: «А вы сыграть не пробовали?». Иногда мне кажется: «О, как это не похоже на меня, но как я хочу попытаться это почувствовать!». Мне нравится перемена лиц.
— У тебя в последнее время появились очень разные героини. Чем тебя заинтересовали, например, Аглая из сериала «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» и Ирина Константиновна в «Дылдах»?
— В «Новом деле майора Черкасова» меня привлекло то, что моя героиня — актриса, причем несостоявшаяся, нереализованная. Она как минимум неопытная, но при этом очень амбициозная. Поскольку я думаю, что мне самой это несвойственно (улыбается), было очень любопытно это сыграть. И нравилось, что это ретро-детектив. В «Дылдах» (а уже выходит второй сезон), моя героиня поначалу этакий сухарь, но постепенно она раскрывается.
— Вначале, на мой взгляд, она не просто сухарь, а настоящая стерва. Но действительно сильно меняется благодаря чувству. А ты чаще видишь вокруг себя людей, которые меняются со временем, с возрастом или тех, кто в целом остается собой?
— Разных. Кто-то очень переменчив и текуч, кто-то стабилен, как утюг. Почему утюг? Ну, давай считать, что утюг — это какая-то константа.
— А ты какая?
— Я же себя со стороны не вижу.
— Ты уже лет пятнадцать-двадцать можешь сознательно наблюдать родителей, сестру. Как тебе кажется, они сильно изменились?
— Они все в чем-то смягчаются, в чем-то становятся жестче, в чем-то разочаровываются, избавляются от каких-то привычек и убеждений, потому что они большие и интересные люди — странно ждать от них какой-то консервации.
— Но мне кажется, что вот твой папа за те двадцать лет, что я его знаю, в главном не изменился, остался таким же добрым, отзывчивым, надежным…
— Конечно. Наверное, набор принципиальных качеств у всех, кого я знаю близко, сохранился. Я сегодня узнаю в своих родителях их молодых. Что касается нас с Сашкой, думаю, к этому вопросу надо будет вернуться лет через двадцать.
— После «Мосгаза», «Дылд», «Закрытого сезона» ты чувствуешь больше внимания к себе, узнавания? Замечаешь какие-то признаки успеха?
— У меня как-то глаз на это не настроен. Я замечаю только какие-то конкретные вещи: подошли на улице — спросили про какой-нибудь фильм. «Меня узнали», — догадался Штирлиц. Наверное, сейчас такое случается чаще. Особенно после сериала «Мир. Дружба. Жвачка». Я сама его весной с удовольствием посмотрела, оказалось, что не я одна.
— А пишут?
— Мне писать некуда, нет аккаунтов в соцсетях, только письма на почту. Когда-то был Фейсбук, но и его давно нет.
— Почему? Сейчас все твои коллеги зациклены на Инстаграме, который, на мой взгляд, гораздо более эгоцентричен…
— Молодцы, но у меня нет Инстаграма.
— А тебе не говорят, что это нужно и полезно для актрисы? Кроме того, ты очень расцвела, у тебя за последние годы появилось столько красивых фотографий, не хочется показать их?
— Спасибо моему косметологу. (Улыбается.) Все, что мне хочется показать людям, я показываю. А кто Инстаграмом должен заниматься, я или кто-то другой? Хотя, если бы я хотела, наверное, нашла бы на это время. Главное, я не очень понимаю, зачем мне это. Зачем себя заставлять-то?
— Как ты относишься к своей внешности, можешь объективно оценивать, глядя на экран, фотографии?
— Мне кажется, я к себе объективно отношусь. Не считаю, что писана как картина маслом, но, если мне вдруг так покажется, есть простой способ спуститься на землю. Заходишь в Интернет и читаешь все, что про тебя пишут. Никаких иллюзий не останется. (Смеется.)
— Как ты реагируешь на комментарии?
— Я уже не буду другой, поэтому и тем, кому нравлюсь, и тем, кому не нравлюсь, придется как-то с этим смириться. (Улыбается.)
— Но бывает, что ты сама себе нравишься? И зависит ли твоя женская уверенность от комплиментов, восхищенных взглядов, мужского внимания?
— Мне кажется, что я не очень завишу от чужого мнения, это какой-то инстинкт самосохранения, выработанный годами. Моя уверенность в себе зависит от других вещей.
— От каких же?
— От чего-то большего, что есть внутри: того, что я живу, как чувствую, от ощущения правды или благодарности, от состояния счастья и покоя людей, которых я люблю, от чувства сделанного дела или предвкушения новой работы. Я тут как-то между съемками в жутком виде заехала к папе, и он под шумок сделал мой портрет на свой телефон. Я увидела лицо с морщинами, страшно невыспавшееся, с какой-то неустроенностью во взгляде, но это была я, фото что-то про меня говорило. Это объективно и красиво.
— Тебе продолжают говорить, что ты похожа на Роми Шнайдер?
— Да, продолжают. Но, конечно, я все понимаю, где я, и где Роми Шнайдер. Приятно, но неправда. (Смеется.)
— А твоя человеческая уверенность связана с женской? Например, твоя сестра Саша утверждает, что всегда была уверена в себе как женщина…
— Не очень понимаю, что Саша имеет в виду. Надо у нее уточнить. Это в смысле пользоваться успехом у мужчин? В таком случае на отсутствие внимания я никогда не жаловалась. Но ни женской уверенности, ни реализации мне это не дало. Если она и появилась, то совсем по другому поводу.
— А по какому? От большой любви, отношения конкретного человека?
— Так бы хотелось сказать, что все изнутри из себя, любимой, я все себе сама даю — но это неправда. Я очень завишу от того, какие люди рядом со мной, от того, что делают они для меня, а я для них. С другой стороны, очень не хочется нагружать кого-то дополнительной ответственностью за мое самоощущение. В общем, не знаю я, откуда что берется. (Смеется.)
— Но при всем этом ты очень следишь за собой. С раннего возраста начала ходить к косметологу, сначала вместе с мамой…
— Теперь уже мама ходит к моему косметологу. (Улыбается.) Редкий и судорожный уход за собой — это то, что я делаю для себя. Во-первых, мне очень приятен и интересен человек, к которому я хожу на процедуры, во-вторых, там я отдыхаю. В-третьих, это дает мне ощущение выполненного долга перед собой. Поскольку я знаю, что не занимаюсь своей внешностью ежедневно: недостаточно сплю, пью мало воды, ем что попало — так я пытаюсь свою халатность как-то компенсировать.
— В последние годы ты стала еще и ярой поклонницей спорта…
— Да, последние два с половиной года я им увлеклась. Занимаюсь в зале с тренером. Это тренажеры или чаще функциональные тренировки на выносливость и координацию. Первоначально это была, конечно, психотерапия. Я туда бежала при любом удобном случае: занималась через день или каждый день по два-три часа. В итоге стала лучше себя чувствовать: и седьмой этаж по лестнице с ребенком на руках теперь для меня вообще не проблема.
— Если в одно и то же время нужно будет пойти либо на прекрасный спектакль, фильм, ресторан или в спортзал, что выберешь?
— Смотря с кем я иду в театр или ресторан. Если одна, то, скорее всего, в зал.
— Ты интроверт?
— Тебе виднее. (Улыбается.) Вообще мне кажется, что я достаточно закрыта, но как только чувствую, что есть ради чего открываться, особенно на съемочной площадке, — с радостью это делаю. Так, благодаря работе в мою жизнь пришло много людей, которые стали мне близкими.
— И все же как ты себя чувствуешь перед первым съемочным днем или в начале работы?
— Я умею притворяться (смеется): включать лампочку, от которой всем радостно, и атмосфера разряжается. Если не хочу — не включаю, и тогда находиться со мной мерзко. (Смеется.)
— Тебя не считают сложной актрисой, со сложным характером?
— Об этом лучше не меня спрашивать. Но, по-моему, я легчайшая актриса, просто подарок. (Смеется.)